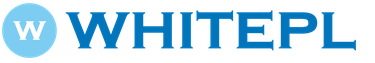Лев толстой о любви. Лев толстой - где любовь, там и бог
Две правды, два сильных характера
и одна большая трагедия.
(Полнер Т.)
Осенью 1903 года П.И.Бирюков, близкий Толстому человек, задумывает писать биографию Льва Николаевича и обращается к нему - письменно - с рядом вопросов. Был среди них и вопрос о любви. Будущему биографу хочется знать, кого, когда и как любил автор «Крейцеровой сонаты». Вот ответ Толстого: «О моих любвях: Первая самая сильная была детская к Сонечке Колошиной. Потом, пожалуй, Зинаида Молостова. Любовь эта была в моем воображении. Она едва ли знала что-нибудь про это. Потом казачка в станице - описано в «Казаках». Потом светское увлечение Щербатовой-Уваровой. Тоже едва ли она знала что-нибудь. Я был всегда очень робок. Потом главное, наиболее серьезное - это была Арсеньева Валерия… Я был почти женихом («Семейное счастье»), и есть целая пачка моих писем к ней».
Полон ли этот набросанный рукой правдивого старца любовный кондуит? Неполон. Нет в нем, например, Аксиньи Базыкиной, яснополянской крестьянки, о которой 30-летний Толстой, одурманенный страстью и запахом вянущей черемухи, пишет в дневнике: «Она хороша, Я влюблен, как никогда в жизни. Три десятилетия минуло, как расстался с Аксиньей, и вдруг она ожила под его пером в «конспиративной» повести «Дьявол» - веселая, ладная, в красном платке, с блестящими глазами.
Но есть в «любовном кондуите» еще один пробел, куда более существенный. Не упоминается еще об одной женщине - той самой, о которой Толстой писал своей двоюродной тетушке Александре Андреевне: «Я, старый беззубый дурак, влюбился». И - ей же, спустя три недели: «Я… и не знал, что можно так любить и быть так счастливым». А в промежутке написано еще одно письмо - быть может, самое пылкое любовное письмо Льва Толстого: «… мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам все… Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести». Это он в письме хорохорится - что найдет, дескать, силы, в дневнике же подумывает, не пустить ли себе пулю в лоб. «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится… Она прелестна во всех отношениях». Грызет себя, что не объяснился: идти назад и сказать все и при всех.
Не сказал - опять не сказал! но хорошо хоть не застрелился, а написал вместо этого то свое сумбурное и страстное послание. Отдал, однако, не сразу - еще два дня таскал малодушно в кармане. «Мне страшно будет услышать: «нет». «Я схватила письмо, - вспоминает та, которая, сама того не ведая, едва не лишила мировую литературу одного из столпов ее - а ну и впрямь наложил бы на себя руки! - и стремительно бросилась бежать вниз, в девичью комнату».
Что чувствовал он в эту минуту? А вот что: «…быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам - лучшее его самого себя, то, что он искал и желал так долго, быстро-быстро приблизилось к нему. Она не шла, но какою-то невидимою силой неслась к нему».
Так описывает эту сцену сам Толстой. «Он видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла и его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи».
Но почему - не «я», почему - «он», «ему»? А потому что это уже не дневник, это - роман «Анна Каренина» и действует здесь не Лев Толстой, а Константин Левин.
Автор щедро поделился с героем именем своим, преобразовав его в фамилию, и любовью к Истине, и, разумеется, биографией. Это ведь никакой не Левин объясняется с возлюбленной посредством букв - начальных букв каждого слова, которые он писал мелом, делает сам Толстой. «Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова». И возлюбленная поняла. «Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все внимание были энергично сосредоточены и на этом мелке, на руке, державшей его». Это ведь ни какой не Левин дает ей, для очистки совести, свой дневник, где с подробностями описана его холостяцкая жизнь, это опять-таки делает сам Толстой. «Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно». То есть решил: возлюбленной должно знать все, в том числе и про Аксинью Базыкину, героиню будущей «конспиративной» повести. Это, наконец, не Константин Левин, это Лев Толстой умудрился остаться в день венчания без рубашки: все вещи упаковали, поскольку молодые «в нынешний же вечер уезжали», а лавки не работали по случаю воскресенья. «Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом рисуя себе, что может подумать невеста.»
Невеста думала вот что: «В голове моей мелькнула мысль, что он бежал». «Мысль, что он бежал» - это не цитата из романа, это строки из воспоминаний, собственноручно написанных графиней Софьей Андреевной Толстой много лет спустя. Нелепая, дикая, бредовая на первый взгляд «мысль, что он бежал», оказалась мыслью пророческой.
Можно ли предположить, читая роман, что так страшно закончится счастливый, почти идиллический брак, нарисованный художником в противовес незаконной любви Анны и Вронского? Можно ли предположить, что Кити, подобно Анне, вздумает сводить счеты с жизнью, вот разве что не под поезд бросится, а в пруд? Можно… Читая роман - читая внимательно! - такое предположить можно.»
С чего же началось отчуждение - с чего и когда? Что же это за разочарование, которое «на каждом шагу» находил Левин, а заодно и создатель его, жаловавшийся в дневнике на молодую жену: «Ее характер портится с каждым днем, я узнаю в ней и Поленьку и Машеньку с ворчаньем и озлобленными колокольчиками».
«Ужасно страшно бессмысленно, - вопиет он на первом же году супружеской жизни, за полтора месяца до рождения первенца, - ужасно страшно, бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство».
Но пока еще он не думает бежать от всего этого, час не настал, истина не осознана до конца, гений только подбирается к ней.
Случившееся поздней осенью 1910 года никого из близких так уж не поразило. На смертном одре он думал - как и всегда - об Истине. Во всяком случае, последние его слова - самые последние! - были об этом. «Я люблю истину… Очень… люблю истину».
Это правда: он больше всего на свете любил Истину. А она больше всего на свете любила его.
Киреев Р . Лев Толстой: «Мне страшно будет услышать: нет»: [очерк] / Руслан Киреев // Наука и религия. — 2003. — №9 — с. 24-27.
«Средь шумного бала, случайно…» Нет, этот романс я услышала позднее, а сначала были «Колокольчики мои, Цветики степные!», завораживающая сказка «Садко». В юности особенное впечатление на меня произвел «Князь Серебряный». Я переживала и не могла успокоиться несколько недель.
Матерью Алексея была незаконнорожденная дочь графа А. К. Разумовского Анна Алексеевна Перовская. Воспитывалась Анна в семье Разумовского и замуж вышла в 1816 году за графа Толстого.
Но брак, скорее всего, был не по взаимной симпатии, вдовый граф был намного старше супруги. Едва поженившись, родители Алексея Толстого стали ссориться и разошлись вскоре после его рождения.
Дядей Толстого со стороны отца был художник-медальер Федор Толстой.
Но воспитывали мальчика мать и её брат известный в те времена писатель А. Перовский, который писал под псевдонимом Антоний Погорельский.
Детство Алексея прошло в имении матери, а затем дяди по материнской линии на Украине в селе Погорельцы.
Позднее сам Толстой писал в : «Ещё шести недель я был увезен в Малороссию матерью моей и моим дядей со стороны матери, Алексеем Алексеевичем Перовским, бывшим позднее попечителем Харьковского университета и известным в русской литературе под псевдонимом Антона Погорельского. Он меня воспитал, и первые мои годы прошли в его имении».
Алексей получил хорошее . С 10-летнего возраста мальчика возили за границу. Так в 1826 году он с матерью и дядей поехал в Германию. Там произошло событие, которое Толстой запомнил на всю жизнь – при посещении Веймара, семья побывала в гостях у Гёте, и Алексей сидел на коленях у великого немецкого писателя.
Большое впечатление произвело на мальчика путешествие по Италии. Как он сам потом писал: «Мы начали с Венеции, где мой дядя сделал значительные приобретения в старом дворце Гримани. Из Венеции мы поехали в Милан, Флоренцию, Рим и Неаполь, – и в каждом из этих городов рос во мне мой энтузиазм и влюблённость к искусству, так что по возвращении в Россию я впал в настоящую «тоску по родине», в какую-то безысходность, вследствие которой я днём ничего не хотел есть, а по ночам рыдал, когда сны меня уносили в мой потерянный рай».
Когда Толстому было 8 лет, они вместе с мамой и дядей переехали в Петербург. Близкий друг дяди, русский поэт В. Жуковский представил Алексея цесаревичу и с тех пор Алексей Толстой был одним из тех детей, что входили в детское окружение наследника престола, будущего Александра II.
По воскресеньям он приходил во дворец для игр. Детские отношения не испарились вместе с детством, а продолжались в течение всей жизни Толстого. К Толстому с большим уважением относилась жена Александра II, императрица Мария Александровна, высоко ценившая поэтический дар Толстого.
Писать Толстой начал на французском языке, именно на нём были написаны два его фантастических рассказа в конце 1830-х – начале 1840-х годов – «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет».
В мае 1841 года под псевдонимом «Краснорогский» была издана первая книга Толстого.
Книгу заметил сам В. Г. Белинский и отозвался о ней весьма благосклонно, увидев в ней «все признаки ещё слишком молодого, но, тем не менее, замечательного дарования».
В 1834 году Толстой стал так называемым «архивным юношей», поступив в московский архив Министерства иностранных дел. Как «студент архива», он выдержал в 1836 году экзамен «по наукам, составлявшим вектор движения бывшего словесного факультета» в Московском университете, и был причислен к русской миссии при германском сейме во Франкфурте на Майне.
В этом же году умер его дядя Перовский, оставив племяннику большое состояние.
1840 году Толстой получил службу в Петербурге при царском дворе, где служил во II отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии, имел придворное звание, продолжая при этом путешествовать по разным странам и вести необременительную светскую жизнь.
В 1843 году им было получено придворное звание камер-юнкера.
В 1840-е годы Алексей Константинович начал работать над историческим романом «Князь Серебряный», который завершил только в 1861 году. В это же время он писал лирические стихотворенья и баллады.
Толстой был знаком с Панаевым, Некрасовым, Гоголем, Аксаковым, Анненковым. Именно он помог Тургеневу освободиться из ссылки в 1852 году.
Наверное, всем известны афоризмы Козьмы Пруткова. Так вот этот сатирический персонаж был создан Алексеем Константиновичем Толстым вместе с двоюродными братьями Жемчужниковыми.
Во время Крымской войны Толстой сначала хотел сформировать особое добровольное ополчение, но когда это ему не удалось, поступил на военную службу и был назначен флигель-адъютантом.
Он так и не успел принять участие в военных действиях, заразившись возле Одессы тифом. Многие его однополчане скончались от этой болезни. И сам Толстой был в очень тяжёлом состоянии, можно сказать, висел на волоске между жизнью и смертью.
Государь был настолько обеспокоен, что ему телеграфировали о состоянии здоровья Толстого несколько раз в день.
Выходила же Толстого жена конногвардейского полковника С.А. Миллер, в девичестве Бахметьева. И Алексей Толстой влюбился в свою спасительницу на всю жизнь.
Им далеко не сразу было суждено воссоединиться. Муж Софьи Андреевны не давал ей развода, да и развестись в те времена было весьма проблематично. Не хотела и мать Толстого, чтобы он женился на Софье Андреевне. Конечно, она мечтала о совсем другой невесте для единственного сына. Официально их брак был оформлен только в 1863 году.
Но письма, Толстого к Софье Андреевне, написанные в зрелом возрасте поражают своей несказанной нежностью. Все, кто знал эту пару, говорили, что их брак был счастливым от первого до последнего дня.
Во время коронации в 1856 году Александр II назначил Толстого флигель-адъютантом, но Толстой не захотел оставаться в военной службе, объясняя это тем, что «Служба и искусство несовместимы», и получил звание егермейстера, в котором и оставался до конца своих дней, не неся никакой службы.
С середины 60-х годов ухудшилось здоровье Толстого, и он большее время стал жить зимой на курортах Италии и Южной Франции, а лето проводил в своих русских имениях – Пустыньке на берегу реки Тосны под Петербургом и Красном Роге Мглинского уезда, Черниговской губернии, близ города Почепа.
В 1866-1870 годах Алексей Константинович опубликовал историческую трилогию, состоявшую из трагедии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис».
Но ухудшилось не только здоровье, но и финансовое положение писателя, так как он мало уделял внимания хозяйству.
В последние годы Толстой писал много стихотворений и баллад, печатался в журналах «Современник», «Русский вестник», «Вестник Европы» и других. В 1867 году он выпустил в свет сборник стихотворений.
Скончался писатель в возрасте 58 лет в имении Красный Рог Черниговской губернии. Врач назначил ему лечение морфием и во время очередного приступа головной боли 28 сентября 1875 года Алексей Константинович Толстой ошибся и ввёл себе слишком большую дозу морфия.
Теперь Красный Рог находится в Брянской области и в нём Музей-усадьба Алексея Толстого.
Там же находится Часовня-усыпальница, где похоронен А.К. Толстой. Каменный склеп был сооружён в 1875 году женой поэта Софьей Андреевной Толстой. Он стал усыпальницей и для самой С.А. Толстой, которая намного пережила мужа, скончавшись в 1892 году.
Наверное, многие удивятся тому, что Толстой имея колоссальную возможность для карьерного роста, предпочёл быть «только» художником.
В одной из своих первых поэм, посвящённой душевной жизни царедворца – поэта Иоанна Дамаскина – Толстой писал о своём герое: «Любим калифом Иоанн, ему, что день, почёт и ласка». Но Иоанн Дамаскин обращается к калифу с просьбой – «простым рождён я был певцом, глаголом вольным Бога славить... О, отпусти меня, калиф, дозволь дышать и распевать на воле».
Точно такой же доли желал для себя и сам писатель.
И все его произведения, начиная с лирических стихотворений, сатиры и баллад до исторического романа и драм являются ценными жемчужинами в сокровищнице русской литературы.
А его романсы проливают в сердца слушателей гимн неугасающей любви и щемящую нежность.
Лев Толстой
Великий русский писатель, который получил домашнее образование, но стал самым знаменитым писателем не только в России, но и в мире. Его роман «Анна Каренина» стали читать все, масштабная картина нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы заинтересовало всем, ведь главная концепция романа, трагическая любовь замужней дамы Анни Каренины.
Сегодня этот роман хотят экранизировать многие знаменитые режиссеры. Толстой был противником государственной системы, он отказался от Нобелевской премии, его жизнь был бурным и трагическим. Каждая его мысль это цитата.
Цитаты и афоризмы Льва Толстого
Чем больше мы любим, тем обширнее, полнее и радостнее становится наша жизнь.

Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит.
Любить - значит жить жизнью того, кого любишь.
Я уверен, что смысл жизни для каждого из нас - просто расти в любви.
Любить? Всех любить и всегда любить нельзя - не осилишь. Разумеется, это хорошо бы. Но это невозможно, как невозможно не спать. И тот, кто точно любил, знает, и чем сильнее он любил, знает, что этого нельзя. Не достанет внимания. Чтоб полюбить, надо вникнуть в чужую душу. А это труд, для которого нужны силы.

Без любви жить легче. Но без неё нет смысла.
У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю всё, что у меня есть.
Брак истинный только тот, который освещает любовь.
Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли.

Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых они сами не стоят.
Не говоря уже о любви ко мне, которой нет и следа, ей не нужна и моя любовь к ней, ей нужно одно: чтобы люди думали, что я люблю ее. Ужасно.
Любовь - это сущность души, она должна укрепиться и очиститься от всех дурных чувств, раздражения и иронии, направленных против человека.
Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя.
Настоящее познание дается сердцем. Мы знаем только то, что любим.
Надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым.
Егор Иванович, морщась от мурашек в затекших ногах, вылез из залепленной грязью плетушки, отпустил ямщика и, придерживая отдуваемые октябрьским ветром полы верблюжьего чапана, отворил калитку, – между железными ее прутьями на ржавом завитке прилип красно-желтый мокрый кленовый лист. Эта калитка, и свистевшие непогодой и унынием голые сучья клена, и в особенности мертвый лист – снова с пронзительной остротой напомнили Егору Ивановичу то, о чем он старался не думать и о чем думал всю дорогу, три дня тащась в плетушке по уезду.
Подняв брови, Егор Иванович сказал: «Да, да», со вздохом, и пошел к дому, разъезжаясь ногами по глиняной дорожке. Сырой ветер мутил лужи и воду в человеческих следах, гнал косые холодные большие капли, рвал и мотал остатки листьев, свистел тоскливо вдоль мокрой деревянной стены дома, казавшегося пустынным. «Да, да», – иным, злым голосом повторил Егор Иванович, всходя на три ступени деревянного крыльца, поскреб сапоги о железную скобу и сильно несколько раз дернул ручку звонка.
Егор Иванович не испытывал никакого удовольствия – усталым и прозябшим войти к себе в чистый, опрятный, хорошо пахнущий дом, – вошел, заранее морщась. Сбросив чапан на руки востроносой, с необыкновенно тонкой талией горничной Соне – ненавистнице рода человеческого и жениной наперснице, – он спросил, дома ли жена, Анна Ильинишна. «Дома-с, у них гости», – ответил враг рода человеческого. Егор Иванович, глядя на ее поджатый ротик, на острый, как косточка, веснушчатый носик, сказал: «Соня, от вас опять пахнет карболовым мылом», – и пошел в умывальную, дотом к себе в кабинет. Здесь было светло от трех больших чистых окон, пылали дрова в обложенном дубом, резном камине. «Да, да», – уже с некоторым примирением, с остатком вздоха, в третий раз сказал Егор Иванович, сел на кожаный диван и стал трогать влажную русую кудрявую бородку.
Он видел – на письменном столе, перед мраморной чернильницей, на которой, на медных крышечках, поблескивал отблеск камина, – лежит пачка нераспечатанных писем, бумаг и газет. Егор Иванович усмехнулся и покачал головой. Эта пачка деловых бумаг – так, нераспечатанная, – лежит вот уже больше месяца, а бумаги, очевидно, есть срочные, – страшно в них заглянуть. «Взять да и бросить всю пачку в огонь – одним словом, моя личная жизнь поважнее вашей трухи бумажной, – вот и все». Вдруг он приметил отдельно одно письмо, оно стояло ребром у самой чернильницы. Он соскочил с дивана, взял письмо, – штемпель был из Петрограда, конверт написан незнакомым крупным почерком. Егор Иванович подошел к окну, на минуту закрыл глаза и разорвал конверт.
«Егор, милый, мне немыслимо тебе писать, труднее, чем я думала… Я все время лгу… Господи, прости меня… Ты пойми, ненаглядный мой: я не чистая, вся душа моя не ясная. Глядеть в глаза мужу и думать о тебе! – я больше не могу лгать. Пожалей меня, пойми, мне – больно… Я пишу сейчас из парикмахерской, – муж бреется, он ни на минуту не оставляет меня одну…» Письмо было подписано – «Маша». Три раза перечел Егор Иванович нацарапанные карандашом, загибающиеся книзу строчки. Боль, жалость, ревность овладели им. Из-за строк он видел ее лицо, каким оно было за стеклом вагона в минуту расставания: прикрытое сеточкой вуали, нежное, грустное, с серыми взволнованными глазами. Она улыбалась растерянно… Когда окно двинулось – она зажмурилась…
Этим летом Егор Иванович встретил у своей приятельницы, Зинаиды Федоровны (дочери старшего врача земской больницы), девушки суровой, молчаливой и очень хорошенькой, ее замужнюю сестру, Марью Федоровну, Машу. Маша приехала к отцу и сестре из Петрограда – отдохнуть, – «пожить чистенько», как она говорила. От петроградской суеты, мужниных знакомых и их жен, банкетов, ресторанного времяпрепровождения и в особенности от мужа, Михаила Петровича, профессора международного права, – у нее к весне начинались дурные настроения: точно душа, как стекло, разбивалась на кусочки; кровь – мутная, сердце – как высохший мандарин. Зато здесь, у отца, Маша вставала рано, шла гулять в городской сад, еще мокрый от росы, глядела на детей, на птиц, на облака и чувствовала себя маленькой, кроткой, грустной и счастливой. В дождливую погоду она накидывала пуховый платок, садилась на диван с книжкой, подбирала ноги под юбку и слушала, как сестра, Зюм, в круглых очках, стучит молотком по мраморной глыбе, – Зюм была очень талантлива. Ложилась Маша после вечернего чая, глядела на лампадку, плакала часто перед тем, как заснуть, но не от горя, а так – сама не знала от чего.
В этот свой приезд она нашла у сестры нового знакомого, Егора Ивановича, губернского инженера. Он был большой, с близоруким, застенчивым лицом, удивительно весь уютный, косолапый и какой-то – свой. Являлся он в разное время и ненадолго, потому что боялся жены. Маша выходила к нему, какая бывала – в платке или в туфлях на босу ногу. Они садились в мастерской на диване и, чтобы не мешать Зюм, разговаривали вполголоса о всевозможных вещах, ни ему, ни ей не нужных. О себе же они не говорили, точно по уговору.
Через несколько дней Маша заметила, что Егор Иванович при встрече с ней начинает моргать глазами и ни на что непохоже улыбаться. Она сразу догадалась, что это значит, и неожиданно обрадовалась; когда же поняла, что – рада, то струсила. Но Егор Иванович был так простодушен и весь на ладошке, что она тут же решила – бояться нечего.
Однажды Егор Иванович пришел взъерошенный, с оторванной пуговицей на пиджаке, сел в угол дивана, на котором сидела Маша, и надулся как мышь на крупу, замолчал. Зюм ушла из комнаты. Маша положила ладонь Егору Ивановичу на руку и спросила тихо:
– Что случилось?
– Жена, – ответил он с давнишней досадой.
– Поссорились?
– Конечно, поссорились, что же там может другое случиться. Господи, Боже мой, как это все мерзко…
Маша опустила глаза, – что она могла ему ответить? Егор Иванович молча глядел на нее, и она чувствовала, что он глядит с отчаянием. Вдруг он повернулся, взял ее руки – сжал. Маша не подняла глаз. Его руки ослабели, он поднялся с дивана и остановился у окна, спиной к Маше. Она поглядывала на него и думала: «Чужой человек, а до чего близкий. Поссорился с женой, оторвал на себе пуговицу, пришел жаловаться. Люблю, честное слово… Господи, как глупо».
– Не буду я приходить сюда больше, – проговорил он, не двигаясь. (Маша, неожиданно для себя, широко улыбнулась.) Сам, никто другой – сам во всем виноват: устроил себе омерзительную жизнь. Залез по шею, сижу, как в гуще, в этой грязи… Только одно – благополучие. Будь оно проклято!
Маша соскочила с дивана и подошла к Егору Ивановичу, он с крепко зажмуренными глазами замотал головой. Маша сказала кротко:
– Егор Иванович…
– Да, я слушаю…
– Так что же нам с вами делать? Ничего, видно, не поделаешь…
Он стремительно обернулся к ней, – серьезное, страшно важное лицо его начало бледнеть. Маша стояла перед ним, подняв голову, нежная, милая, простенько причесанная, светловолосая. Губы ее доверчиво, чуть-чуть грустно улыбались.
– Ходить-то все-таки будете ко мне, а? – сказала она; подбородок ее дрогнул, в глазах появились искорки смеха.
Так у них началось. Теперь они начали целыми часами говорить только о себе, о самом задушевном, горьком, затаенном. Маша изменилась за эти насколько дней – осунулась и помолодела, серые глаза стали больше, наполнились светом, она особенно, как-то забавно, стала морщить носик. Ей было легко дышать и легко ходить, словно земля стала пухом.
Однажды, поздно вечером, после долгого разговора в прихожей, Егор Иванович нагнулся к ней и нежно поцеловал в губы – и ушел. Маша долго стояла у стены, закрыв глаза, ни о чем не думала, – только горели щеки.
Два раза в неделю Маша писала мужу в Петроград. Неожиданно в ответ должно быть, на одно из ее писем от него пришла телеграмма: «Безумно встревожен, схожу с ума, выезжай немедленно».
Толстой Лев Николаевич
Где любовь, там и бог
Л.Н.Толстой
ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ
Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать - возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик - трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел - подумал: "Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти, оставлю его при себе". И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у бога смерти и укорял бога за то, что он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок - уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться.
И жить, - говорит, - божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек.
И сказал ему старичок:
Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя божьи дела судить. Не нашим умом, а божьим судом. Твоему сыну судил бог помереть, а тебе - жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь.
А для чего же жить-то? - спросил Мартын. И старичок сказал:
Для бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется.
Помолчал Мартын и говорит:
А как же для бога жить-то?
И сказал старичок:
А жить как для бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай, там узнаешь, как для бога жить. Там все показано.
И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый завет крупной печати и стал читать.
Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него бог хочет и как надо для бога жить, и все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: "Слава тебе, слава тебе, господи! Твоя воля". И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживал и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и 1000 оговорит человека. Теперь все это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и веселее на сердце.
Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи: "Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй ваять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними".
"Что вы зовете меня: господи, господи! и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое".
Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И думает сам с собой:
Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один сидишь, кажется, все и сделал, как бог велит, а рассеешься - и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне господи!
Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще 7-ю главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал господа к себе в гости, и прочел о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами, и как он оправдал ее. И дошел он до 44-го стиха и стал читать; "И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал; а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал; а она миром помазала мне ноги". Прочел он эти стихи и думает: "Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал..."
И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался.
"Такой же, видно, как я, фарисей-то был. Тоже, я чай, только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтобы об госте подумать. Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. А гость-то кто? Сам господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал?"
И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал.
Мартын! - вдруг как задышало что-то у него над ухом.